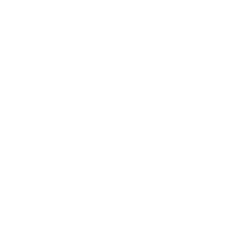О медиа, регионах и личном опыте
Шеф-редактор «МБХ-Медиа» Сергей Простаков
О журналистике
Журналистом я захотел стать уже под занавес моей студенческой жизни — весной 2012 года. Я закончил в Курске ОГОШИ «Лицей-интернат №1» в 2006 году, после чего поступил на факультет прикладной политологии Высшей школы экономики. Считаю, что получил почти идеальное гуманитарное образование. Приходить в журналистику после соответствующего факультета совсем не обязательно, потому что в редакциях будут переучивать писать заново. Собственно, после того, как я понял, что хочу работать в журналистике, я стал искать контакты в этой сфере, параллельно работая копирайтером в одной компании.
От решения работать в журналистике до соответствующей записи в трудовой книжке прошел год. Весной 2013 года Павел Пряников предложил мне место в запускавшейся в тот момент «Русской планете». Там до ее разгона я проработал полтора года. Могу определенно сказать, что в этом издании была собрана уникальная команда. И это не ритуальная фраза. Во-первых, наша редакция была левацкой, но в диковинном для нынешних постмарсксистских времен народническом, демократическом смысле. Во-вторых, редакторы «Планеты» изначально сделали ставку на новые имена. Своих журналистов они воспитывали сами. В феврале 2016-го Олег Кашин напишет о феномене «смирновско-пряниковских воспитанников», которые появились в российской журналистике.
От решения работать в журналистике до соответствующей записи в трудовой книжке прошел год. Весной 2013 года Павел Пряников предложил мне место в запускавшейся в тот момент «Русской планете». Там до ее разгона я проработал полтора года. Могу определенно сказать, что в этом издании была собрана уникальная команда. И это не ритуальная фраза. Во-первых, наша редакция была левацкой, но в диковинном для нынешних постмарсксистских времен народническом, демократическом смысле. Во-вторых, редакторы «Планеты» изначально сделали ставку на новые имена. Своих журналистов они воспитывали сами. В феврале 2016-го Олег Кашин напишет о феномене «смирновско-пряниковских воспитанников», которые появились в российской журналистике.
О «Последних 30»
Я в «Русской планете» писал об истории и на разные другие гуманитарные темы. Когда главного редактора Пряникова оттуда «попросили», то я ушел вслед за ним. Произошло это в декабре 2014 года, и сразу после разгона «Планеты» мы с фотографом Сергеем Карповым придумали проект «Последние 30». Он посвящен исследованию постсоветской России. За точку отсчета мы берем Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 года, когда в стране началась Перестройка. У нас есть 30 тем, каждая из которых раскрывается тремя разными способами: обзорный текст ученого, галерея героев, авторское мнение журналистов.
«Последние 30» — это, прежде всего, проект о Родине. У нашего поколения, рожденного во второй половине 1980-х, нет другой Родины кроме постсоветской России. Мы не готовились к жизни в Советском Союзе. Поэтому мы в этом проекте ищем прежде всего свою Итаку — постсоветскую Россию.
Это проект — мое главное достижение после ухода из РП. Я понимал, что другой такой редакции я не найду еще долго, поэтому хотелось делать что-то свое. Да, пришлось это делать без денег, на голом энтузиазме, при поддержке людей. Но вот, как раз, солидарность и энтузиазм — ресурсы, которые в России использовать совсем не умеют. Речь идет не о том, чтобы бесплатно кого-то «поюзать» для своих целей. Нет, речь, прежде всего, о том, что, если что-то не нравится, то нужно объединяться с заинтересованными людьми, и тратить время на достижение общих целей. Вот, наверное, «Последние 30» еще и о том, как выжить в российской политической реакции и не облажаться. Впрочем, оставим такие фразы до лучших времен.
«Последние 30» — это, прежде всего, проект о Родине. У нашего поколения, рожденного во второй половине 1980-х, нет другой Родины кроме постсоветской России. Мы не готовились к жизни в Советском Союзе. Поэтому мы в этом проекте ищем прежде всего свою Итаку — постсоветскую Россию.
Это проект — мое главное достижение после ухода из РП. Я понимал, что другой такой редакции я не найду еще долго, поэтому хотелось делать что-то свое. Да, пришлось это делать без денег, на голом энтузиазме, при поддержке людей. Но вот, как раз, солидарность и энтузиазм — ресурсы, которые в России использовать совсем не умеют. Речь идет не о том, чтобы бесплатно кого-то «поюзать» для своих целей. Нет, речь, прежде всего, о том, что, если что-то не нравится, то нужно объединяться с заинтересованными людьми, и тратить время на достижение общих целей. Вот, наверное, «Последние 30» еще и о том, как выжить в российской политической реакции и не облажаться. Впрочем, оставим такие фразы до лучших времен.
О московской журналистской «тусовке»
Никакой московской журналистской тусовки нет, как я сейчас убеждаюсь всё больше. Есть большое российское сообщество независимых журналистов. Другое дело, сообщество ли? Просто из-за повышенного российского централизма, кажется, что в Москве происходит все самое важное. Это не так. Условная «Медуза» задает тренды из Риги. «Тайга.Инфо», «Знак», «Бумага», «Фонтанка», «Югополис», — это всё издания, известные далеко за пределами своих регионов. А московская «Медиазона» пишет преимущественно о новостях российских регионов.
Сейчас такое время — для освоивших Интернет реально нет никакой разницы, где ты находишься. Крутой паблик во «Вконтакте» — это тоже медиа — с сотнями тысяч подписчиков можно сделать хоть в Курске, хоть на Огненной земле. У меня хватает друзей и знакомых в разных регионах страны, с которыми даже удается делать какие-то совместные вещи — всех их я знаю благодаря Интернету. Кто-то живет вообще в США или Франции.
Поэтому возникает вполне резонный вопрос: а зачем тогда нужна Москва? Москву нужно воспринимать, прежде всего, как большой университет, как место, где ты получаешь навыки и знакомства. Сделать это, как я уже сказал, можно, и не выезжая из собственного города, но на это уйдет больше времени.
Сейчас такое время — для освоивших Интернет реально нет никакой разницы, где ты находишься. Крутой паблик во «Вконтакте» — это тоже медиа — с сотнями тысяч подписчиков можно сделать хоть в Курске, хоть на Огненной земле. У меня хватает друзей и знакомых в разных регионах страны, с которыми даже удается делать какие-то совместные вещи — всех их я знаю благодаря Интернету. Кто-то живет вообще в США или Франции.
Поэтому возникает вполне резонный вопрос: а зачем тогда нужна Москва? Москву нужно воспринимать, прежде всего, как большой университет, как место, где ты получаешь навыки и знакомства. Сделать это, как я уже сказал, можно, и не выезжая из собственного города, но на это уйдет больше времени.
О возвращении в Курск
Поэтому сейчас я подумываю, может быть, и не о полном возвращении, но о жизни на два города. Российские регионы любят и в Москве, и в самих регионах считать страшным дремотным царством хтони, откуда нужно выбираться, несмотря ни на что. Нет, это не так. Когда у тебя за плечами вся страна и весь мир, начинаешь понимать, что перед тобой прежде всего гигантская целина, которую можно и нужно поднять. Что мешает современному Курску иметь, если не СМИ, то какое-то медиа федерального значения? Ну, кроме банальных причин с финансированием?
Я, быть может, ничего такого бы здесь не рассказывал, если бы не одно очень важное путешествие в моей жизни. Осенью 2015 года команда «Последних 30» приехала в Татарстан по приглашению казанского Центра современной культуры «Смена». Это удивительнейшее место. «Смена» соединяет в себе то, что в Москве разбросано в разных точках: книжный магазин интеллектуальной литературы, выставочный и концертный зал, издательство, лекториум, тусовку, в конце концов. Делается это, повторюсь, в Казани. Да, там есть определенная поддержка властей — она важна. Но важнее — желание команды «Смены» иметь такое место в городе. И сегодня для Казани «Смена» — это центр притяжения. Я слежу за их пабликами: скоро это будет центр притяжения всей России.
Но почему так получилось? Арт-директор «Смены» Кирилл Маевский утверждает, что ничего бы у него не получилось, если бы не несколько лет прожитых в Москве. Жизнь в мировом мегаполисе тем и хороша — она задает тебе отсутствие горизонтов, приучает к условности границ. Сейчас команда «Смены» для меня — ориентир.
Сегодня начать в Курске делать современное городское медиа, а лучше несколько — это важная и актуальная задача. Создать подобный «Смене» центр — это революция. Вот The Seym Post — шаг в подобном направлении. Причем, очевидно, что есть потенциал и примеры. Наше региональное радио «Курс» — крутейшее. Сейчас оно звучит как Maximum или «Наше радио» в лучшие годы. Причем сколько я себя помню, столько ребята и держат марку. По крайней мере, это точно единственное радио, которое мне искренне хочется слушать. Какие там плейлисты! Возможно в Курске есть что-то еще по убедительности близкое к «Курсу», что я упустил за последние 10 лет, которые живу в Москве.
Очень хочется поучаствовать в чем-то подобном «Смене» в Курске. Надеюсь, доведется. Какие-то шаги в этом направлении я, по крайней мере, пытаюсь делать.
Может быть, придется и журналистику забросить. Я собственно ей в чистом виде никогда не занимался. Журналистика и медиа — это все-таки несколько разные вещи. А как говорил мой кумир Александр Невзоров: «Журналистика — не конечная профессия, особенно для мужчины».
Я, быть может, ничего такого бы здесь не рассказывал, если бы не одно очень важное путешествие в моей жизни. Осенью 2015 года команда «Последних 30» приехала в Татарстан по приглашению казанского Центра современной культуры «Смена». Это удивительнейшее место. «Смена» соединяет в себе то, что в Москве разбросано в разных точках: книжный магазин интеллектуальной литературы, выставочный и концертный зал, издательство, лекториум, тусовку, в конце концов. Делается это, повторюсь, в Казани. Да, там есть определенная поддержка властей — она важна. Но важнее — желание команды «Смены» иметь такое место в городе. И сегодня для Казани «Смена» — это центр притяжения. Я слежу за их пабликами: скоро это будет центр притяжения всей России.
Но почему так получилось? Арт-директор «Смены» Кирилл Маевский утверждает, что ничего бы у него не получилось, если бы не несколько лет прожитых в Москве. Жизнь в мировом мегаполисе тем и хороша — она задает тебе отсутствие горизонтов, приучает к условности границ. Сейчас команда «Смены» для меня — ориентир.
Сегодня начать в Курске делать современное городское медиа, а лучше несколько — это важная и актуальная задача. Создать подобный «Смене» центр — это революция. Вот The Seym Post — шаг в подобном направлении. Причем, очевидно, что есть потенциал и примеры. Наше региональное радио «Курс» — крутейшее. Сейчас оно звучит как Maximum или «Наше радио» в лучшие годы. Причем сколько я себя помню, столько ребята и держат марку. По крайней мере, это точно единственное радио, которое мне искренне хочется слушать. Какие там плейлисты! Возможно в Курске есть что-то еще по убедительности близкое к «Курсу», что я упустил за последние 10 лет, которые живу в Москве.
Очень хочется поучаствовать в чем-то подобном «Смене» в Курске. Надеюсь, доведется. Какие-то шаги в этом направлении я, по крайней мере, пытаюсь делать.
Может быть, придется и журналистику забросить. Я собственно ей в чистом виде никогда не занимался. Журналистика и медиа — это все-таки несколько разные вещи. А как говорил мой кумир Александр Невзоров: «Журналистика — не конечная профессия, особенно для мужчины».