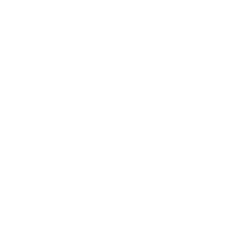«Революцию делают сильные люди»
Интервью с Александром Демченко
Что куряне знают о современной драматургии? Кажется, будто люди, не занятые театральным творчеством, знают чуть меньше, чем ничего. Однако можно развеять этот миф на примере одного из молодых и многообещающих жителей Курска – Александра Демченко. Александр - профессиональный молодой журналист, и автором публикаций был чаще, чем героем. Конечно, мы решили исправить такую несправедливость и поведать о том, что он пишет не только статьи, но и пьесы.
В свои 26 Александр явно выделяется на фоне остальных людей его возраста, главным образом потому, что его жизнь связана с драматургией. Казалось бы, три года назад он только дебютировал с пьесой «Тлеющий человек», а уже в этом году его «Поехавших» опубликовал журнал «Современная драматургия».
Его произведения - это глубоко интимные личные переживания. Читая любую из пьес Александра, невольно задаешься вопросом: "А не пишет ли автор о себе?". Как оказалось, пишет. Конечно, нельзя назвать эти произведения полностью автобиографическими, но часть собственного опыта, мировоззрения и переживаний драматург вкладывает в уста кого-либо из героев. В его строках существует та боль, которая заставляет читателя увидеть мир глазами автора – правдивым, грубым, не «запудренным» лишними лирическими отступлениями. Неподкупная искренность, своего рода душевный "эксгибиционизм" еще сделают свое дело. Демченко есть куда расти, но на профессиональный, драматургический рост уйдут годы.
Драматичные, циничные и одновременно до последнего слова живые строки Александра сначала вызывают отторжение, неприязнь. Но затем наступает осознание того, что фактически автор не пытается обмануть читателя, а всего лишь прибегает к законным и даже обязательным средствам выразительности.
Впрочем, обо всём Александр подробно поделился с нами лично.
В свои 26 Александр явно выделяется на фоне остальных людей его возраста, главным образом потому, что его жизнь связана с драматургией. Казалось бы, три года назад он только дебютировал с пьесой «Тлеющий человек», а уже в этом году его «Поехавших» опубликовал журнал «Современная драматургия».
Его произведения - это глубоко интимные личные переживания. Читая любую из пьес Александра, невольно задаешься вопросом: "А не пишет ли автор о себе?". Как оказалось, пишет. Конечно, нельзя назвать эти произведения полностью автобиографическими, но часть собственного опыта, мировоззрения и переживаний драматург вкладывает в уста кого-либо из героев. В его строках существует та боль, которая заставляет читателя увидеть мир глазами автора – правдивым, грубым, не «запудренным» лишними лирическими отступлениями. Неподкупная искренность, своего рода душевный "эксгибиционизм" еще сделают свое дело. Демченко есть куда расти, но на профессиональный, драматургический рост уйдут годы.
Драматичные, циничные и одновременно до последнего слова живые строки Александра сначала вызывают отторжение, неприязнь. Но затем наступает осознание того, что фактически автор не пытается обмануть читателя, а всего лишь прибегает к законным и даже обязательным средствам выразительности.
Впрочем, обо всём Александр подробно поделился с нами лично.
Расскажи, пожалуйста, чем тебе запомнилось твое детство? Ты ведь вырос в Железногорске?
Александр: Да, я родился в Железногорске и вырос там же. Осознанно себя помню лет с семи, когда пошел в первый класс. На дворе был где-то 1996 год. Помню дурацкий хмурый пейзаж с тремя ларьками – пивным, пунктом приема стеклотары и шашлычным - вокруг которых постоянно крутились местные ребята в поисках пустых бутылок, которые потом можно сдать. Еще детство мне запомнилось играми в футбол, в которых я выдающимися успехами не блистал...
А кем планировал стать?
До десяти лет я мечтал быть директором школы! (смеется) Почему-то мне казалось, что это очень классно.
Кстати, как складывались у тебя отношения с одноклассниками?
Да не особо складывались. Я мало кому нравился. В детстве обычно родители решают, как тебе стричься. Ну, в общем, прическа у меня была не очень удачная, и выглядел я довольно комично, отчего был постоянным объектом приколов со стороны одноклассников. Правда, потом с класса восьмого отношение стало более лояльным, но все же популярностью я у сверстников по-прежнему не пользовался. Постоянно рассуждал о каких-то книжках, фильмах, это было никому не интересно.
Наверное, примерно тогда, после восьмого класса, стали проявляться твои способности к литературе?
Ну, до старших классов русский язык и литература меня в принципе не интересовали. Или нет, скорее до одной книги под названием «Герой нашего времени» Лермонтова. Именно эта книга оказала на меня какое-то воздействие, в результате которого я стал по-другому относиться к урокам литературы. На самом деле, до 9 класса у меня была тройка по русскому, да и вообще я не любил этот предмет. А вот литературу очень уважал. За это спасибо моему учителю Татьяне Алексеевне Милютиной, которая смогла вызвать интерес к этому предмету, не ограничивала в рассуждениях. Я очень любил писать сочинения! Старался мыслить не шаблонно, найти какие-то интересные мысли в тексте, самостоятельно переосмыслить произведение. А иногда в конце я писал небольшое письмо учительнице, мол, я вот написал, хочу к вам обратиться и т.д. Помню, как-то даже у меня была оценка за одно из сочинений: «За оригинальность – 5, за грамотность – 2». А потом даже и рассказы какие-то начал писать…
Навеянные первой любовью, конечно же?
Конечно, писал свои рассуждения, мысли по этому поводу. В это же время пытался устроиться в местную газету «Эхо недели» юным корреспондентом. У меня получилось, это был, по-моему, 10 класс. И на молодежной странице, где печатали всякие репортажи юных корреспондентов, периодически выходили мои зарисовки, за которые, если их сейчас перечитать, будет достаточно стыдно. Все-таки какие-то подростковые излияния…
Этого, наверное, не скажешь о творчестве в период студенчества?
Не буду скрывать, что во время студенчества, мы, иногородние ребята, вырвавшись из-под родительского надзора, откровенно веселились, об учебе думали мало. Зажигали в Курске нашей большой дружной компанией, в которой был Вячеслав Мараков, Алексей Третьяков и многие другие. Например, меня после первой сессии хотели отчислить. В то время мы только-только начинали что-то серьезное писать – все-таки собрались все люди творческие. Самым творческим из нас, пожалуй, был Слава Мараков. Он написал тогда рассказ под названием «Пиво и мыло». Сюжет был такой: один парень умирает, его кремируют, а прах его хранится в бутылке из-под моющего средства. А главный герой постоянно вспоминает этого парня, и однажды, после лютой пьянки, он спускает прах своего друга в унитаз. Эта рукопись была, конечно, утеряна. С этого рассказа все и началось. Мы что-то писали, выкладывали в интернет на различные литературные порталы.
Какую литературу ты читал в то время?
В то время я читал Сергея Минаева - «Духless», «Media Sapiens». Мне казалось тогда, что он так клёво пишет! Еще читал Фредерика Бегбедера... Можно ли назвать это ошибкой юности? Да нет, я бы не сказал. Это ценный опыт – почитать такую беллетристику… Ну, и потихоньку, начали писать самостоятельно. Это была такая околомаргинальная литература, контркультура, так сказать. Старались надавить, что называется, на гниль. Показать какие-то мерзости…
То есть, вы находили смакование грязи интересным?
Ну, нам казалось, что это забавно. На данный момент это по-другому воспринимается. Мы и сейчас об этом пишем, но подача совершенно другая. Тогда была цель – взять ведро помоев и вылить на читателя. В этом есть своеобразный юношеский максимализм – чем ты грубее напишешь, чем больше будет мата, «чернухи», тем будет круче. Мне кажется, каждый пишущий человек проходит через подобную стадию. Кто-то раньше, кто-то позже.
А сейчас как ты относишься к «чернухе»?
Это вдохновляет. Например, мне очень нравится сериал «В Филадельфии всегда солнечно», который можно назвать «чернушным». Казалось бы, над чем там смеяться? Местами грубо, местами полный сортирный юмор, но почему-то все равно смеешься. Может быть, до такой степени это кажется невозможным в реальной жизни, что выглядит забавным? Или так хорошо написаны диалоги, актеры обыгрывают… То есть адекватный человек, воспринимающий жизнь всерьез, вряд ли оценит подобные вещи.
Александр: Да, я родился в Железногорске и вырос там же. Осознанно себя помню лет с семи, когда пошел в первый класс. На дворе был где-то 1996 год. Помню дурацкий хмурый пейзаж с тремя ларьками – пивным, пунктом приема стеклотары и шашлычным - вокруг которых постоянно крутились местные ребята в поисках пустых бутылок, которые потом можно сдать. Еще детство мне запомнилось играми в футбол, в которых я выдающимися успехами не блистал...
А кем планировал стать?
До десяти лет я мечтал быть директором школы! (смеется) Почему-то мне казалось, что это очень классно.
Кстати, как складывались у тебя отношения с одноклассниками?
Да не особо складывались. Я мало кому нравился. В детстве обычно родители решают, как тебе стричься. Ну, в общем, прическа у меня была не очень удачная, и выглядел я довольно комично, отчего был постоянным объектом приколов со стороны одноклассников. Правда, потом с класса восьмого отношение стало более лояльным, но все же популярностью я у сверстников по-прежнему не пользовался. Постоянно рассуждал о каких-то книжках, фильмах, это было никому не интересно.
Наверное, примерно тогда, после восьмого класса, стали проявляться твои способности к литературе?
Ну, до старших классов русский язык и литература меня в принципе не интересовали. Или нет, скорее до одной книги под названием «Герой нашего времени» Лермонтова. Именно эта книга оказала на меня какое-то воздействие, в результате которого я стал по-другому относиться к урокам литературы. На самом деле, до 9 класса у меня была тройка по русскому, да и вообще я не любил этот предмет. А вот литературу очень уважал. За это спасибо моему учителю Татьяне Алексеевне Милютиной, которая смогла вызвать интерес к этому предмету, не ограничивала в рассуждениях. Я очень любил писать сочинения! Старался мыслить не шаблонно, найти какие-то интересные мысли в тексте, самостоятельно переосмыслить произведение. А иногда в конце я писал небольшое письмо учительнице, мол, я вот написал, хочу к вам обратиться и т.д. Помню, как-то даже у меня была оценка за одно из сочинений: «За оригинальность – 5, за грамотность – 2». А потом даже и рассказы какие-то начал писать…
Навеянные первой любовью, конечно же?
Конечно, писал свои рассуждения, мысли по этому поводу. В это же время пытался устроиться в местную газету «Эхо недели» юным корреспондентом. У меня получилось, это был, по-моему, 10 класс. И на молодежной странице, где печатали всякие репортажи юных корреспондентов, периодически выходили мои зарисовки, за которые, если их сейчас перечитать, будет достаточно стыдно. Все-таки какие-то подростковые излияния…
Этого, наверное, не скажешь о творчестве в период студенчества?
Не буду скрывать, что во время студенчества, мы, иногородние ребята, вырвавшись из-под родительского надзора, откровенно веселились, об учебе думали мало. Зажигали в Курске нашей большой дружной компанией, в которой был Вячеслав Мараков, Алексей Третьяков и многие другие. Например, меня после первой сессии хотели отчислить. В то время мы только-только начинали что-то серьезное писать – все-таки собрались все люди творческие. Самым творческим из нас, пожалуй, был Слава Мараков. Он написал тогда рассказ под названием «Пиво и мыло». Сюжет был такой: один парень умирает, его кремируют, а прах его хранится в бутылке из-под моющего средства. А главный герой постоянно вспоминает этого парня, и однажды, после лютой пьянки, он спускает прах своего друга в унитаз. Эта рукопись была, конечно, утеряна. С этого рассказа все и началось. Мы что-то писали, выкладывали в интернет на различные литературные порталы.
Какую литературу ты читал в то время?
В то время я читал Сергея Минаева - «Духless», «Media Sapiens». Мне казалось тогда, что он так клёво пишет! Еще читал Фредерика Бегбедера... Можно ли назвать это ошибкой юности? Да нет, я бы не сказал. Это ценный опыт – почитать такую беллетристику… Ну, и потихоньку, начали писать самостоятельно. Это была такая околомаргинальная литература, контркультура, так сказать. Старались надавить, что называется, на гниль. Показать какие-то мерзости…
То есть, вы находили смакование грязи интересным?
Ну, нам казалось, что это забавно. На данный момент это по-другому воспринимается. Мы и сейчас об этом пишем, но подача совершенно другая. Тогда была цель – взять ведро помоев и вылить на читателя. В этом есть своеобразный юношеский максимализм – чем ты грубее напишешь, чем больше будет мата, «чернухи», тем будет круче. Мне кажется, каждый пишущий человек проходит через подобную стадию. Кто-то раньше, кто-то позже.
А сейчас как ты относишься к «чернухе»?
Это вдохновляет. Например, мне очень нравится сериал «В Филадельфии всегда солнечно», который можно назвать «чернушным». Казалось бы, над чем там смеяться? Местами грубо, местами полный сортирный юмор, но почему-то все равно смеешься. Может быть, до такой степени это кажется невозможным в реальной жизни, что выглядит забавным? Или так хорошо написаны диалоги, актеры обыгрывают… То есть адекватный человек, воспринимающий жизнь всерьез, вряд ли оценит подобные вещи.
Хорошо, вернемся к твоей драматургической карьере. Ты ушел на заочное отделение после первого курса, правильно? Ты работал сначала в железногорской газете «Эхо недели», а два года назад переехал в Курск и стал штатным корреспондентом областного издания «Друг для друга». Так вот, как параллельно развивалось твое пристрастие к драматургии?
Как ты уже знаешь, начинал я с каких-то зарисовок, эссе, рассказов… Но в один прекрасный момент, я понял, что чего-то во всех этих моих опытах не хватает, что-то в них не то…
А стихи ты пробовал писать?
По юношеству, как и многие. Но вовремя понял, что стихи – это не мое. Когда я занимался прозой лет в 20, мне здорово помогал железногорский писатель Геннадий Николаевич Александров, который работал в «Эхо недели». Он постоянно поощрял мои литературные опыты. И вот в тот момент я подумал, что можно было бы написать пьесу. Не знаю, почему мне пришла в голову подобная мысль. Решил попробовать себя в чем-то новом, наверное.
То есть тебя никто не вдохновлял из именитых драматургов? Ни Вампилов, ни Вырыпаев, например?
Это все будет попозже. Но вот первую пьесу «Про ангелов и чертей» я написал уже в 22 года.
К сожалению, не пришлось познакомиться с этой пьесой. Ты можешь пересказать сюжет?
Значит, у каждого человека есть на плечах по ангелу и черту. Один делает добрые дела, другой – злые, соответственно. Каждый из них должен сделать определенное количество таких поступков. И у них постоянно происходят между собой конфликты, но самое главное, что у обоих есть определенная норма по добрым и злым делам, которую они не могут выполнить. И им говорят, мол, если вы не справитесь, вас уволят, и вы отправитесь куда подальше. Они следят за парнем, который влюбляется в девушку, у которой на плечах сидят аналогичные ангел и черт. Ну, и получается у них такой любовный многоугольник. Мне казалось, что пьеса получилась классно, и захотелось узнать чье-то компетентное мнение. Я стал искать в интернете, у кого бы можно было спросить. Искал руководителей любительских театров. И нашел одного такого в Белгороде, который посоветовал обратиться к московскому театральному критику Павлу Рудневу. Я прислал ему пьесу, он ответил что-то типа: «Слушайте, Александр, вы делаете ошибку, которую делают 70-80 % начинающих авторов: вы написали не о том, что вас волнует».
Получается, что ты прислушался к его совету в дальнейшем?
Да. Ведь меня действительно волновали другие темы. Будучи сотрудником «Эха недели», мне часто доводилось ездить в рейды по неблагополучным семьям. То, что я там наблюдал, а именно отношения пьющих родителей со своими детьми, нищету и прочее, меня очень впечатлило. И я решил написать об этом. Историю про семью, в которой есть пьющий отец, гуляющая мать, религиозная бабушка и главный герой – маленький мальчик, который все это впитывает и становится все хуже и хуже. Все свои эмоции и мысли он выражает через рисунки. В итоге, получилась пьеса «Тлеющий человек». Вот эту пьесу я написал в конце 2012 года, и ее можно моим назвать серьезным дебютом.
Ее где-то опубликовали?
Нет, ее нигде не печатали. Но я отправил эту пьесу на все драматургические конкурсы, которые были в тот момент. Первый раз она не получила нигде никакого отзыва. И в следующие полгода я занимался только журналистской работой, в то время как пьеса лежала себе в недрах компьютера. Но в один из дней я крепко выпил, перечитал ее и почувствовал себя этаким обиженным литератором. И вот в этой пьяной горячке отправил «Тлеющего человека» на еще какие-то текущие драматургические конкурсы и лег спать. Проснулся и сказал себе, что никогда в жизни писать больше ничего не буду. И спокойно занимался журналистикой еще 2-3 месяца. А потом внезапно пьеса попадает в лонг-лист – своего рода полуфинал - международного конкурса драматургии «Евразия», который делает Николай Владимирович Коляда. Благодаря ему мы знаем теперь таких драматургов, как Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, Ирина Васьковская, Владимир Зуев и других. Но дальше лонг-листа я, к сожалению, не продвинулся.
Как ты уже знаешь, начинал я с каких-то зарисовок, эссе, рассказов… Но в один прекрасный момент, я понял, что чего-то во всех этих моих опытах не хватает, что-то в них не то…
А стихи ты пробовал писать?
По юношеству, как и многие. Но вовремя понял, что стихи – это не мое. Когда я занимался прозой лет в 20, мне здорово помогал железногорский писатель Геннадий Николаевич Александров, который работал в «Эхо недели». Он постоянно поощрял мои литературные опыты. И вот в тот момент я подумал, что можно было бы написать пьесу. Не знаю, почему мне пришла в голову подобная мысль. Решил попробовать себя в чем-то новом, наверное.
То есть тебя никто не вдохновлял из именитых драматургов? Ни Вампилов, ни Вырыпаев, например?
Это все будет попозже. Но вот первую пьесу «Про ангелов и чертей» я написал уже в 22 года.
К сожалению, не пришлось познакомиться с этой пьесой. Ты можешь пересказать сюжет?
Значит, у каждого человека есть на плечах по ангелу и черту. Один делает добрые дела, другой – злые, соответственно. Каждый из них должен сделать определенное количество таких поступков. И у них постоянно происходят между собой конфликты, но самое главное, что у обоих есть определенная норма по добрым и злым делам, которую они не могут выполнить. И им говорят, мол, если вы не справитесь, вас уволят, и вы отправитесь куда подальше. Они следят за парнем, который влюбляется в девушку, у которой на плечах сидят аналогичные ангел и черт. Ну, и получается у них такой любовный многоугольник. Мне казалось, что пьеса получилась классно, и захотелось узнать чье-то компетентное мнение. Я стал искать в интернете, у кого бы можно было спросить. Искал руководителей любительских театров. И нашел одного такого в Белгороде, который посоветовал обратиться к московскому театральному критику Павлу Рудневу. Я прислал ему пьесу, он ответил что-то типа: «Слушайте, Александр, вы делаете ошибку, которую делают 70-80 % начинающих авторов: вы написали не о том, что вас волнует».
Получается, что ты прислушался к его совету в дальнейшем?
Да. Ведь меня действительно волновали другие темы. Будучи сотрудником «Эха недели», мне часто доводилось ездить в рейды по неблагополучным семьям. То, что я там наблюдал, а именно отношения пьющих родителей со своими детьми, нищету и прочее, меня очень впечатлило. И я решил написать об этом. Историю про семью, в которой есть пьющий отец, гуляющая мать, религиозная бабушка и главный герой – маленький мальчик, который все это впитывает и становится все хуже и хуже. Все свои эмоции и мысли он выражает через рисунки. В итоге, получилась пьеса «Тлеющий человек». Вот эту пьесу я написал в конце 2012 года, и ее можно моим назвать серьезным дебютом.
Ее где-то опубликовали?
Нет, ее нигде не печатали. Но я отправил эту пьесу на все драматургические конкурсы, которые были в тот момент. Первый раз она не получила нигде никакого отзыва. И в следующие полгода я занимался только журналистской работой, в то время как пьеса лежала себе в недрах компьютера. Но в один из дней я крепко выпил, перечитал ее и почувствовал себя этаким обиженным литератором. И вот в этой пьяной горячке отправил «Тлеющего человека» на еще какие-то текущие драматургические конкурсы и лег спать. Проснулся и сказал себе, что никогда в жизни писать больше ничего не буду. И спокойно занимался журналистикой еще 2-3 месяца. А потом внезапно пьеса попадает в лонг-лист – своего рода полуфинал - международного конкурса драматургии «Евразия», который делает Николай Владимирович Коляда. Благодаря ему мы знаем теперь таких драматургов, как Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, Ирина Васьковская, Владимир Зуев и других. Но дальше лонг-листа я, к сожалению, не продвинулся.
Но ведь были и другие конкурсы, где ты все-таки вышел в финал?
Да, в 2013 году совершенно случайно узнал, что моя пьеса «Тлеющий человек» вошла в шорт-лист (финал) фестиваля молодой драматургии «Любимовка», и что будет читка в «Театр.doc».
И ты незамедлительно туда отправился?
Я не хотел сначала ехать. Я очень испугался, потому что в жизни не занимался театром, не понимал, что это такое. Никогда там толком-то и не был! Думал, может быть, отказаться? Тем не менее, посоветовался с родными и близкими, и все же решил поехать. Мне же было нечего терять.
И какие чувства ты испытывал, когда наконец-таки добрался до столицы?
Наверное, первые два дня я не мог просто собраться с мыслями. Еще я узнал, что на фестиваль приедет Ярослава Пулинович, и думал, что задам ей тысячу вопросов! Она оказалась очень открытым и искренним человеком, который всегда поможет советом.
Как же прошел твой дебют?
После прочтения пьесы актерами (это выглядит со стороны как чтение «по ролям»), на сцену приглашают драматурга. Модератор задает вопросы зрителям, что им показалось особенно интересным, что не очень. Таким образом, выстраивается такая незаметная критика, которая никоим образом тебя не заденет, но ты из нее понимаешь, что у тебя сработало в пьесе, а что нет.
Как ты относишься к критике? Тебя критиковали?
Меня критика абсолютно не задевает, наоборот, я всегда готов ее выслушать. И, конечно же, меня критиковали. Говорили, мол, автор, немножко ввел в заблуждение читателя: оказалось, что главный герой не мальчик, а пьющий отец.
Какие выводы после этой читки ты для себя сделал?
Я открыл для себя совершенно другой мир. Узнал, о чем пишут мои ровесники, что такое «новая драма» и современный театр. Все это показалось мне очень интересным. Когда я вернулся в Курск, то понял, что надо писать дальше, ведь мне дали какой-то шанс, приоткрыли дверь в драматургию.
Да, в 2013 году совершенно случайно узнал, что моя пьеса «Тлеющий человек» вошла в шорт-лист (финал) фестиваля молодой драматургии «Любимовка», и что будет читка в «Театр.doc».
И ты незамедлительно туда отправился?
Я не хотел сначала ехать. Я очень испугался, потому что в жизни не занимался театром, не понимал, что это такое. Никогда там толком-то и не был! Думал, может быть, отказаться? Тем не менее, посоветовался с родными и близкими, и все же решил поехать. Мне же было нечего терять.
И какие чувства ты испытывал, когда наконец-таки добрался до столицы?
Наверное, первые два дня я не мог просто собраться с мыслями. Еще я узнал, что на фестиваль приедет Ярослава Пулинович, и думал, что задам ей тысячу вопросов! Она оказалась очень открытым и искренним человеком, который всегда поможет советом.
Как же прошел твой дебют?
После прочтения пьесы актерами (это выглядит со стороны как чтение «по ролям»), на сцену приглашают драматурга. Модератор задает вопросы зрителям, что им показалось особенно интересным, что не очень. Таким образом, выстраивается такая незаметная критика, которая никоим образом тебя не заденет, но ты из нее понимаешь, что у тебя сработало в пьесе, а что нет.
Как ты относишься к критике? Тебя критиковали?
Меня критика абсолютно не задевает, наоборот, я всегда готов ее выслушать. И, конечно же, меня критиковали. Говорили, мол, автор, немножко ввел в заблуждение читателя: оказалось, что главный герой не мальчик, а пьющий отец.
Какие выводы после этой читки ты для себя сделал?
Я открыл для себя совершенно другой мир. Узнал, о чем пишут мои ровесники, что такое «новая драма» и современный театр. Все это показалось мне очень интересным. Когда я вернулся в Курск, то понял, что надо писать дальше, ведь мне дали какой-то шанс, приоткрыли дверь в драматургию.
Когда появилась следующая пьеса?
Как раз по возвращении из Москвы у меня возникла идея написания новой пьесы маргинальной тематики. Стал писать о бывшем военном, ветеране одной из локальных войн, который пьет, живет в своем скучном мире и хочет как-то изменить ситуацию. Но потом я понял, что опять всех обманываю и пишу не о том. И появилась идея написать про журналистов.
Ты сам журналист и, наверное, любишь свою работу?
Конечно, люблю. Поэтому и решил написать об этом. Месяца три-четыре после «Любимовки» я вынашивал замысел пьесы «Поехавшие», делал какие-то наброски. Но так получилось, что к тому моменту, когда у меня уже были черновики, практически все конкурсы уже закрыли прием пьес. Оставалась только «Любимовка», «Волошинский конкурс» и «Форум молодых писателей». То есть мне надо было срочно доработать материал, чтобы собрать его во что-то цельное. Я взял на работе отпуск сроком в две недели, и на протяжении этого времени каждый день с утра до позднего вечера писал. И за несколько дней до окончания приема отправил готовую пьесу на «Любимовку», причем с довольно равнодушным настроем. Эта пьеса «Поехавшие» писалась кровью, писалась очень тяжело.
Ты списываешь своих героев с реальных людей?
Некоторые списаны, а некоторых выдумываю. Но в каких-то персонажах очень много меня.
Например, в пьесе «Моя девушка революция»?
Нет, скорее как раз в «Поехавших». Например, этот практикант Коля Жмакин, который постоянно хочет написать что-то интересное. Он похож на меня, когда я только начинал заниматься журналистикой. Другого героя, Петровича, я списал с коллеги, и он прекрасно знает об этом. Какие-то детали брал из новостей, что-то придумывал. В итоге, получилось то, что получилось.
А персонаж Крыса тоже списан с кого-то?
Нет, это собирательный образ власти, которая контролирует муниципальную газету и желает, чтобы там был необходимый контент. Есть журналисты, которые с этим смирились и будут обслуживать власть. Но есть люди, которые готовы пожертвовать своим местом в газете, опубликовав стоящий материал, противоречащий политике, устанавливаемой «наверху». Журналиста можно купить, журналиста можно запугать, можно покалечить. Понятно, что сейчас журналиста легче купить, мотивировать его деньгами. Я не говорю про себя, говорю про тех, кто работает в государственных СМИ. Например, информационный повод – коррупция, которая процветает у них в районе. Но они не будут об этом писать, потому что получают за свое молчание хорошие деньги. Это работа. Но рано или поздно человеку надоест врать. Получается, ты либо с теми, кто у власти, либо с «поехавшими».
Какова же дальнейшая судьба пьесы?
«Поехавших» взяли на «Любимовку». Она попадает в лонг-лист «Волошинского конкурса» и ее берут на «Форум молодых писателей». В итоге, съездил на «Любимовку» и на «Форум молодых писателей».
Как прошла «Любимовка» в этот раз?
В этот раз - намного интереснее. Я был увереннее в себе. А еще накануне отъезда на фестиваль мне позвонил Родион Белецкий из журнала «Современная драматургия» и уведомил меня о публикации моей пьесы. Это событие меня очень воодушевило! В общем, я приехал на «Любимовку», познакомился с новыми авторами. Мы очень много говорили о литературе, о жизни. Единственное, что мы избегали в своих разговорах – конфликт на Украине. Кстати, были и драматурги из Украины, например, Татьяна Киценко, Анастасия Косодий.
Как раз по возвращении из Москвы у меня возникла идея написания новой пьесы маргинальной тематики. Стал писать о бывшем военном, ветеране одной из локальных войн, который пьет, живет в своем скучном мире и хочет как-то изменить ситуацию. Но потом я понял, что опять всех обманываю и пишу не о том. И появилась идея написать про журналистов.
Ты сам журналист и, наверное, любишь свою работу?
Конечно, люблю. Поэтому и решил написать об этом. Месяца три-четыре после «Любимовки» я вынашивал замысел пьесы «Поехавшие», делал какие-то наброски. Но так получилось, что к тому моменту, когда у меня уже были черновики, практически все конкурсы уже закрыли прием пьес. Оставалась только «Любимовка», «Волошинский конкурс» и «Форум молодых писателей». То есть мне надо было срочно доработать материал, чтобы собрать его во что-то цельное. Я взял на работе отпуск сроком в две недели, и на протяжении этого времени каждый день с утра до позднего вечера писал. И за несколько дней до окончания приема отправил готовую пьесу на «Любимовку», причем с довольно равнодушным настроем. Эта пьеса «Поехавшие» писалась кровью, писалась очень тяжело.
Ты списываешь своих героев с реальных людей?
Некоторые списаны, а некоторых выдумываю. Но в каких-то персонажах очень много меня.
Например, в пьесе «Моя девушка революция»?
Нет, скорее как раз в «Поехавших». Например, этот практикант Коля Жмакин, который постоянно хочет написать что-то интересное. Он похож на меня, когда я только начинал заниматься журналистикой. Другого героя, Петровича, я списал с коллеги, и он прекрасно знает об этом. Какие-то детали брал из новостей, что-то придумывал. В итоге, получилось то, что получилось.
А персонаж Крыса тоже списан с кого-то?
Нет, это собирательный образ власти, которая контролирует муниципальную газету и желает, чтобы там был необходимый контент. Есть журналисты, которые с этим смирились и будут обслуживать власть. Но есть люди, которые готовы пожертвовать своим местом в газете, опубликовав стоящий материал, противоречащий политике, устанавливаемой «наверху». Журналиста можно купить, журналиста можно запугать, можно покалечить. Понятно, что сейчас журналиста легче купить, мотивировать его деньгами. Я не говорю про себя, говорю про тех, кто работает в государственных СМИ. Например, информационный повод – коррупция, которая процветает у них в районе. Но они не будут об этом писать, потому что получают за свое молчание хорошие деньги. Это работа. Но рано или поздно человеку надоест врать. Получается, ты либо с теми, кто у власти, либо с «поехавшими».
Какова же дальнейшая судьба пьесы?
«Поехавших» взяли на «Любимовку». Она попадает в лонг-лист «Волошинского конкурса» и ее берут на «Форум молодых писателей». В итоге, съездил на «Любимовку» и на «Форум молодых писателей».
Как прошла «Любимовка» в этот раз?
В этот раз - намного интереснее. Я был увереннее в себе. А еще накануне отъезда на фестиваль мне позвонил Родион Белецкий из журнала «Современная драматургия» и уведомил меня о публикации моей пьесы. Это событие меня очень воодушевило! В общем, я приехал на «Любимовку», познакомился с новыми авторами. Мы очень много говорили о литературе, о жизни. Единственное, что мы избегали в своих разговорах – конфликт на Украине. Кстати, были и драматурги из Украины, например, Татьяна Киценко, Анастасия Косодий.
В обеих твоих последних пьесах тема Украины вскользь, но все-таки упоминается. Видно, что ты не равнодушен.
Конечно. Сейчас эта тема меня не слишком будоражит, но вот тогда это казалось каким-то сумасшествием. Ну, присоединили мы Крым, ну и ладно. Но дальше все пошло не так. Теперь два братских народа стали отделяться друг от друга, и кто знает, когда эта вражда закончится. Причем, обычные люди ее не хотят.
Считаешь ли ты, что это заслуга СМИ?
Да, это большая «заслуга» средств массовой информации. На благо пропаганды стараются как российские, так и украинские журналисты. Они помогают конфликту, «зомбируют» аудиторию. Лично я не хочу войны. Я прекрасно понимаю жителей Новороссии, которые не хотят мириться с киевской властью, и прекрасно понимаю украинское правительство, которое не хочет терять земли. Но нужно найти какой-то компромисс.
Мне известно, что ты побывал на Майдане…
Да, не буду скрывать, что в декабре 2013 года я ездил в Киев. Майдан в то время еще только начинался. Тогда митингующих студентов разогнали, люди стали выходить на улицы, организовали палаточный городок… Когда я все это увидел, я сразу взял отпуск и поехал туда. Меня встретили знакомые киевские драматурги, показали мне всё, что там происходило. Когда видишь тысячи людей, которые поют в едином порыве гимн Украины, это выглядит величественно, завораживающе. Там люди стояли за лучшую жизнь. Я спрашивал их: «А чего вы вообще хотите?», и мне отвечали: «Мы не хотим быть ни с Россией, ни с Европой, мы хотим свергнуть Януковича и жить честно». Тогда все это казалось очень романтичным, вдохновляющим. Им абсолютно нечего было терять.
А как ты считаешь, кто делает революцию?
Революцию делают сильные люди.
В своих пьесах ты часто высмеиваешь так называемых хипстеров, которые пытаются мыслить революционно, называют себя «оппозицией»… Кто же такие хипстеры по-твоему?
Люди, которые следуют моде, Западу. Некоторые уходят от русской культуры, а другие и вовсе не чувствуют себя русскими, или же им «стыдно, что они русские». Образованные, знают пару языков, хотят жить в Праге, Варшаве, Риге. Типа там — Европа, культура, а тут разруха и азиатчина. Ну и не все они мыслят либерально или нелиберально, большинство просто вне политики, так, могут покричать в Сети, что «при сегодняшнем Режиме жить невозможно», потребовать велосипедных дорожек в своем городе, на этом их «протест» и заканчивается. А есть другие «хипстеры», тоже, может быть, хотят «свалить из Рашки», а все равно стараются сделать что-то полезное для своего города, страны. К примеру, помогают детским домам, пожилым людям, собирают деньги на лечение детей, выбивают детские площадки из властей или сами эти площадки делают.
А вот скажи, можно ли назвать твои пьесы патриотическими? Ведь в твоих произведениях явно проскальзывает околополитическая и околопатриотическая тематика.
Я стараюсь зафиксировать сегодняшние события, разобраться в них, понять, что делать дальше. Сейчас я нахожусь на перепутье: не хочу кидаться в крайности.
Как ты считаешь, есть ли в нашей стране оппозиция?
Она какая-то картонная, ненастоящая. «Оппозиционеры» неубедительно себя ведут. Вот идея Русского мира, пропагандируемая повсеместно, действительно продуманна и четко отработана. Русские должны быть с русскими – это интересно для большинства. К этой идее еще привязать программу - и народ окончательно поверит. Со стороны оппозиции нет ничего подобного. Смена власти — это уже не идея. Ну, поменяли одних на других, а что дальше? Проблема в том, что у власти и оппозиции нет диалога, они не могут договориться, пойти на компромисс. В пьесе «Моя девушка революция» отчасти поднимается этот вопрос.
Но вот скажи, эта пьеса отражает по-твоему современные реалии?
Опять же, это моя личная боль. Я рассуждаю о том, с кем лучше быть.
А чем отличаются «Поехавшие» от «Моей девушки революции»?
В первой пьесе рассматривается тема свободы и несвободы личности. Либо ты зарабатываешь нормально, но врешь, либо говоришь правду, но остаешься без работы. Перед этим выбором стоят многие журналисты. «Моя девушка революция» - это совершенно другое. Это попытка понять, что делать в ситуации, когда всё рухнуло, когда нет доверия абсолютно никому – ни власти, ни оппозиции. Как должен поступить человек – пропагандировать мирный протест или взять оружие? Я представил, что к 2020 году оппозиция дойдет до такой степени, что все-таки примет радикальную сторону. И это страшно.
Кстати, ты будешь посылать эту пьесу на какой-нибудь конкурс?
Да, я отправил пока только на «Любимовку». До этого я написал пьесу, комедию положений, на спор с одним из драматургов. Она называется «Я, мой муж, любовник, труп» и я бы сказал, что подходит больше для театра.
Кто для тебя служит примером из знаменитых современных драматургов?
Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, братья Пресняковы. Вот этих людей я могу назвать своими заочными учителями. Особенно на меня повлиял Сигарев, его «Пластилин» и сценарий «Волчка».
А из мировых писателей кто-то вдохновляет?
В свое время меня очень впечатлил Генри Миллер и его роман «Тропик рака». Этот текст меня воодушевил на дальнейшую работу в жизни.
Конечно. Сейчас эта тема меня не слишком будоражит, но вот тогда это казалось каким-то сумасшествием. Ну, присоединили мы Крым, ну и ладно. Но дальше все пошло не так. Теперь два братских народа стали отделяться друг от друга, и кто знает, когда эта вражда закончится. Причем, обычные люди ее не хотят.
Считаешь ли ты, что это заслуга СМИ?
Да, это большая «заслуга» средств массовой информации. На благо пропаганды стараются как российские, так и украинские журналисты. Они помогают конфликту, «зомбируют» аудиторию. Лично я не хочу войны. Я прекрасно понимаю жителей Новороссии, которые не хотят мириться с киевской властью, и прекрасно понимаю украинское правительство, которое не хочет терять земли. Но нужно найти какой-то компромисс.
Мне известно, что ты побывал на Майдане…
Да, не буду скрывать, что в декабре 2013 года я ездил в Киев. Майдан в то время еще только начинался. Тогда митингующих студентов разогнали, люди стали выходить на улицы, организовали палаточный городок… Когда я все это увидел, я сразу взял отпуск и поехал туда. Меня встретили знакомые киевские драматурги, показали мне всё, что там происходило. Когда видишь тысячи людей, которые поют в едином порыве гимн Украины, это выглядит величественно, завораживающе. Там люди стояли за лучшую жизнь. Я спрашивал их: «А чего вы вообще хотите?», и мне отвечали: «Мы не хотим быть ни с Россией, ни с Европой, мы хотим свергнуть Януковича и жить честно». Тогда все это казалось очень романтичным, вдохновляющим. Им абсолютно нечего было терять.
А как ты считаешь, кто делает революцию?
Революцию делают сильные люди.
В своих пьесах ты часто высмеиваешь так называемых хипстеров, которые пытаются мыслить революционно, называют себя «оппозицией»… Кто же такие хипстеры по-твоему?
Люди, которые следуют моде, Западу. Некоторые уходят от русской культуры, а другие и вовсе не чувствуют себя русскими, или же им «стыдно, что они русские». Образованные, знают пару языков, хотят жить в Праге, Варшаве, Риге. Типа там — Европа, культура, а тут разруха и азиатчина. Ну и не все они мыслят либерально или нелиберально, большинство просто вне политики, так, могут покричать в Сети, что «при сегодняшнем Режиме жить невозможно», потребовать велосипедных дорожек в своем городе, на этом их «протест» и заканчивается. А есть другие «хипстеры», тоже, может быть, хотят «свалить из Рашки», а все равно стараются сделать что-то полезное для своего города, страны. К примеру, помогают детским домам, пожилым людям, собирают деньги на лечение детей, выбивают детские площадки из властей или сами эти площадки делают.
А вот скажи, можно ли назвать твои пьесы патриотическими? Ведь в твоих произведениях явно проскальзывает околополитическая и околопатриотическая тематика.
Я стараюсь зафиксировать сегодняшние события, разобраться в них, понять, что делать дальше. Сейчас я нахожусь на перепутье: не хочу кидаться в крайности.
Как ты считаешь, есть ли в нашей стране оппозиция?
Она какая-то картонная, ненастоящая. «Оппозиционеры» неубедительно себя ведут. Вот идея Русского мира, пропагандируемая повсеместно, действительно продуманна и четко отработана. Русские должны быть с русскими – это интересно для большинства. К этой идее еще привязать программу - и народ окончательно поверит. Со стороны оппозиции нет ничего подобного. Смена власти — это уже не идея. Ну, поменяли одних на других, а что дальше? Проблема в том, что у власти и оппозиции нет диалога, они не могут договориться, пойти на компромисс. В пьесе «Моя девушка революция» отчасти поднимается этот вопрос.
Но вот скажи, эта пьеса отражает по-твоему современные реалии?
Опять же, это моя личная боль. Я рассуждаю о том, с кем лучше быть.
А чем отличаются «Поехавшие» от «Моей девушки революции»?
В первой пьесе рассматривается тема свободы и несвободы личности. Либо ты зарабатываешь нормально, но врешь, либо говоришь правду, но остаешься без работы. Перед этим выбором стоят многие журналисты. «Моя девушка революция» - это совершенно другое. Это попытка понять, что делать в ситуации, когда всё рухнуло, когда нет доверия абсолютно никому – ни власти, ни оппозиции. Как должен поступить человек – пропагандировать мирный протест или взять оружие? Я представил, что к 2020 году оппозиция дойдет до такой степени, что все-таки примет радикальную сторону. И это страшно.
Кстати, ты будешь посылать эту пьесу на какой-нибудь конкурс?
Да, я отправил пока только на «Любимовку». До этого я написал пьесу, комедию положений, на спор с одним из драматургов. Она называется «Я, мой муж, любовник, труп» и я бы сказал, что подходит больше для театра.
Кто для тебя служит примером из знаменитых современных драматургов?
Василий Сигарев, Ярослава Пулинович, братья Пресняковы. Вот этих людей я могу назвать своими заочными учителями. Особенно на меня повлиял Сигарев, его «Пластилин» и сценарий «Волчка».
А из мировых писателей кто-то вдохновляет?
В свое время меня очень впечатлил Генри Миллер и его роман «Тропик рака». Этот текст меня воодушевил на дальнейшую работу в жизни.
Кстати, как куряне относятся к драматургии? Есть ли у нас хорошие авторы?
Есть один автор Александр Балашов, который живет в Курчатове. Очень хотелось бы, чтобы кто-то еще из земляков написал пьесу. Но, к сожалению, мне кажется, в Курске невозможно найти практическое применение современной драматургии. Никто не верит, что можно сделать даже читку, я уже не говорю о спектакле. Такое в Курске не котируется. В 2013 году в клубе «777» мы пытались с Вячеславом Мараковым организовать какое-то подобие театра современной пьесы. Набрали молодых ребят, нашли режиссера, стали работать над спектаклем «Пластилин». Руководству «Гелиоса» спектакль не понравился. Хотя тем зрителям, которые пришли, пьеса пришлась по душе. Нас попросили освободить помещение. А потом как-то всё заглохло и сошло на нет… Людям непонятна современная драматургия, они будто отравлены классическим театром.
То есть ты считаешь, что классический театр – это плохо?
Нет, пусть будет классика, классика – это отлично, но ее можно было бы разбавлять «новой драмой», современными авторами.
А как ты относишься к мату со сцены?
Вполне адекватно. Что касается моих пьес, то мат – это черта героя. Если это бывший зек, то естественно, что он не будет лезть за словом в карман. Или если эмоции просто переполняют героя через край и он уже не может сдерживаться.
А как бы ты отреагировал, если бы при постановке твоей пьесы, из текста убрали нецензурные выражения?
Да нормально. Если пожелают вычеркнуть – пусть вычеркивают, мне все равно.
Твои пьесы пока не собираются ставить на сцене?
Пока нет, но перспектива была, шли разговоры, мол, напишите для нас что-нибудь, а там посмотрим. Гарантий никто не дает, а работать за идею уже надоело. Это как с местными режиссерами-любителями, которые пытаются снимать фильмы: напиши, но мотивации нет. Не факт, что написанную тобой вещь не проигнорируют.
Есть один автор Александр Балашов, который живет в Курчатове. Очень хотелось бы, чтобы кто-то еще из земляков написал пьесу. Но, к сожалению, мне кажется, в Курске невозможно найти практическое применение современной драматургии. Никто не верит, что можно сделать даже читку, я уже не говорю о спектакле. Такое в Курске не котируется. В 2013 году в клубе «777» мы пытались с Вячеславом Мараковым организовать какое-то подобие театра современной пьесы. Набрали молодых ребят, нашли режиссера, стали работать над спектаклем «Пластилин». Руководству «Гелиоса» спектакль не понравился. Хотя тем зрителям, которые пришли, пьеса пришлась по душе. Нас попросили освободить помещение. А потом как-то всё заглохло и сошло на нет… Людям непонятна современная драматургия, они будто отравлены классическим театром.
То есть ты считаешь, что классический театр – это плохо?
Нет, пусть будет классика, классика – это отлично, но ее можно было бы разбавлять «новой драмой», современными авторами.
А как ты относишься к мату со сцены?
Вполне адекватно. Что касается моих пьес, то мат – это черта героя. Если это бывший зек, то естественно, что он не будет лезть за словом в карман. Или если эмоции просто переполняют героя через край и он уже не может сдерживаться.
А как бы ты отреагировал, если бы при постановке твоей пьесы, из текста убрали нецензурные выражения?
Да нормально. Если пожелают вычеркнуть – пусть вычеркивают, мне все равно.
Твои пьесы пока не собираются ставить на сцене?
Пока нет, но перспектива была, шли разговоры, мол, напишите для нас что-нибудь, а там посмотрим. Гарантий никто не дает, а работать за идею уже надоело. Это как с местными режиссерами-любителями, которые пытаются снимать фильмы: напиши, но мотивации нет. Не факт, что написанную тобой вещь не проигнорируют.
Совершенно недавно стало известно, что Александр Демченко стал одним из победителей Международного конкурса драматургов «Евразия». Премия и диплом были вручены молодому курскому драматургу за пьесу, которую он написал в результате пари – «Я, мой муж, любовник, труп». Остается пожелать нашему герою писать больше подобных успешных произведений не только на спор, но и по зову сердца.
С пьесами Александра можно познакомиться на сайте http://www.theatre-library.ru/authors/d/demchenko_aleksandr
С пьесами Александра можно познакомиться на сайте http://www.theatre-library.ru/authors/d/demchenko_aleksandr
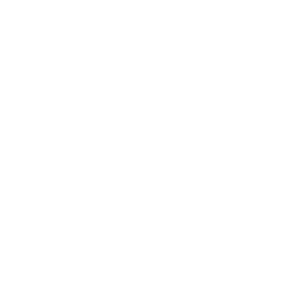
Екатерина Коренькова